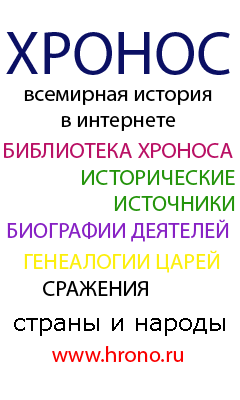Я впервые увидел эту страну в феврале.
Песок по берегам горных рек сверкал от крупинок золота. Белый город Сухум был осыпан желтой пылью мимоз, земля на базарах лиловела от пролитого вина, неумолимое солнце подымалось из-за Клухорского перевала, где горели льды, чернели буковые леса и спали в скалах жирные серебряные руды. Запах апельсинов смешивался с запахом жареных каштанов, красные флаги шумели от южного ветра в тропических зарослях садов, дикие всадники, гортанно крича, бешено скакали по каменным дорогам. Стенами падал теплый ливень, и душистый дым местного табака лениво сочился из окон духанов.
А в это время в ста верстах к северу и к югу море было белое от метели и обезумевшей норд-ост гремел над палубами ржавых пароходов.
Это было в Абхазии, в самой маленькой из Советских республик, в тропической Абхазии, богатой, щедрой и сонной.
Пароход идет вдоль берегов этой страны всего пять-шесть часов. Автомобиль пересекает ее еще быстрее.
С севера, востока и юга стоят горы, они недоступны и непроходимы. Через Главный хребет есть только два перевала – Нахарский и Клухорский. Через Нахарский идут те, кому жизнь не нужна. Через Клухор переходят только в июле, когда стают снега, по переходят лишь те, кому жизнь нужна наполовину.
Переходят карачаевцы – жители Карачаево-Черкесской республики, лежащей по ту сторону гор. Они идут и гонят перед собой стада – продавать абхазцам или менять на табак. Сваны нападают на них, и редкий переход не оканчивается жестокой перестрелкой на склонах Клухора. Почти всегда сваны угоняют половину скота, унося на бурках раненых, и слава этих набегов до сих пор гремит по всей стране от Пицунды до Самурзакани, где особенно сильно бродит дух рыцарства и своеволия.
Горы Абхазии, вглубь от побережья, непроходимы. Они покрыты густыми, девственными, перевитыми густой тканью лиан буковыми лесами, лесами из красного дерева, крушиной, самшитом, зарослями, в которых прячутся шакалы и черные кавказские медведи. Весной медвежат на сухумском базаре продают по три рубля (без торга).
Ледяная цепь Главного хребта видна в ясные дни с сухумского рейда. Синие глетчеры тянутся на десятки верст, и странные названия гор вызывают недоумение и любопытство – Марух, Схопач, Клухор, Нахар, Агыш, Апианча, Адагуа. Многие названия звучат по-итальянски. Недаром в лесах Абхазии, в гуще зарослей, где сумрак зеленеет от листвы и пахнет столетней прелью, вы увидите белые гигантские, заросшие дикой азалией римские маяки, развалины веселых некогда и пышных римских и греческих городов. Вы найдете только тогда, когда дотронетесь до них рукой, так сильно они заросли кустарниками и травами. Столетние буки растут из мраморных генуэзских цистерн, и шакалы спят на мшистых плитах, где четко и грозно темнеют латинские надписи.
Здесь лежал первый великий путь в Индию. Сюда, в эту пламенную Колхиду, приезжал Одиссей, за золотым руном.
На юге к стране вплотную подходит море – индиговое и густое, рассеченное у берегов широкими струями бесчисленных горных рек. Эти реки ворочают, как пробки, пудовые камни и в период таяния снегов рвут, как солому, мосты, ревут, как десятки курьерских поездов, и выносят в море трупы буйволов и вековые деревья.
Но, кроме трупов буйволов, они выносят золотой песок и стаи голубой, пятнистой форели.
Богатство Абхазии – в горах. Серебряно-свинцовые руды, каменный уголь, золото, мощные лесные массивы, медь, железо, бурные реки, энергия которых могла бы, преображенная в динамо-машины, залить ослепительным светом весь Кавказ, все это ждет дорог и армий рабочих, девственное, нетронутое и неисследованное.
Море у берегов Абхазии глубоко и на глубине отравлено сернистыми газами. Лишь на отмелях кипит жизнь, но богатства этих отмелей поразительно.
Вблизи Гудаут есть устричные банки, и гудаутские устрицы считаются лучшими в Европе. Но этих устриц пока никто не ловит.
Пицундская бухта кишит дельфинами. Каждую весну в Пицунду приходят из Трапезунда и Синопа десятки синих и белых турецких фелюг. Турки бьют дельфинов из старых винтовок, – жир идет на мыловаренные заводы, а балык коптят над кострами. Дым этих костров застилает берега сухумской бухты весь февраль и март.
Во время империалистической войны у берегов Сухума и Нового Афона погибло много транспортов с ценным грузом, на дне образовался целый город кораблей. И до сих пор еще море выбрасывает гнилые ящики, части машин, окаменевшие бочки с цементом и разбухшие, как губки, мессинские апельсины.
Абхазский крестьянин снимает в год два урожая. Земля родит сама, без удобрения, без поливки, без бороньбы. Надо только слегка поцарапать ее прадедовской сохой и бросить семя. Проделав все это, абхазский крестьянин скрывается в недра духанов, где дни и ночи щелкает в нарды, с азартом и горечью неудачного игрока.
Абхазия богата вином: качичем – черным и терпким, амлаху – светлым, как сок лимона, и удивительной маджаркой, которая бродит в желудке и создает опьянение на двадцать четыре часа.
Лиловые винные бочки скрипят на арбах и тянутся к Сухуму, туда же всадники везут у седел старые бурдюки. Винный запах пропитал деревни и города этой страны так густо и крепко, что его не может выжечь солнце и не могут смыть февральские ливни.
Но главное богатство Абхазии – табаки, в особенности «самсун» – крепкий, красный, пряный табак, известный и в Японии, и в Турции, и в старых странах Западной Европы. Весь вывоз этой страны покоится на табаках. Улицы Сухума вблизи порта пропитаны запахом спрессованных табачных листьев, которые грузят на иностранные пароходы из просторных и сухих табачных складов.
Сухумский табак так крепок и так душист, что курить его без примеси более легких и более простых табаков очень трудно. Его подмешивают к самым плохим табакам, и они преображаются, вкус их становится благороден, и горло курильщика не сжимает судорога удушья.
Табачные плантации сплошными коврами покрывают веселые склоны абхазских долин. Табак разводят главным образом греки, пришлое население, замкнутое и трудолюбивое, – не в пример экспансивным грекам из Керчи и Таганрога.
В горах Абхазии растет самшит – кавказская пальма. Он вовсе не похож на пальму. Это – низкий корявый кустарник с мелкими глянцевитыми листьями. Чтобы достигнуть высоты человеческого роста, самшит тратит не меньше ста лет. Но у самшита есть одно необычайное свойство – это самая твердая порода древесины, он тверд, почти как металл. Из самшита можно делать части машин.
О самшите не знали. Лишь недавно обратили внимание на это изумительное дерево, и теперь из него начали впервые изготовлять челноки для ткацких машин. Будущее самшита – громадно.
Горцы расскажут вам необычайные истории о том, как люди, срывавшиеся в пропасть, спасались, уцепившись за крошечный, в четверть аршина высотой, кустик самшита, ибо самшит не только тверд, но и с чрезвычайной силой держится корнями за расселины скал.
Абхазия могла бы сеять пшеницу. Но испокон веков, от прадедов абхазский крестьянин унаследовал кукурузу – самую неприхотливую и не боящуюся засух. Абхазская деревня питается ярко-желтым, как цвет канарейки, кукурузным хлебом. В горах приходится идти версты и версты в высоких кукурузных полях, где голова кружится от духоты, от запаха кукурузной пыли и по ночам прячутся и хохочут шакалы.
Маисовый хлеб, горный овечий сыр, спрессованный, как гигантские колеса, кислое вино и мацони – вот пища абхазского крестьянина.
Сухумский базар всегда завален фруктами. Зимой мандаринами, каштанами, хурмой, апельсинами, кисловатыми и прекрасными гранатами, декоративными цитронами. Запах каленых орехов (фундуков) преследует вас на каждом шагу. Печи топят ореховой скорлупой, пищу в базарных духанах готовят на ореховом масле.
Осенью горы лилового и матово-зеленого винограда тонут в горах желтых персиков, раздражающе сочных и душистых, как душист вообще весь сухумский воздух. Шампанские яблоки эстонских колоний под Сухумом шипят и пенятся, когда их надкусываешь, как донское шампанское. Алыча желтеет, как воск, и сливы так же сладки, сахаристы и сочны, как абрикосы и шелковица.
Зеленую алычу (особый сорт сливы) очищают от косточек, прессуют и продают в виде черной широкой кожи. Алыча – это абхазский уксус. Ее кладут как приправу во все восточные блюда.
Вокруг Ново-Афонского монастыря (теперь Псхырцха) тянутся обширные оливковые сады с серой листвой – сады единственные в СССР.
В Абхазии субтропический климат, поэтому район Сухума – единственное место, где легко можно разводить редкие лекарственные растения и травы. Сейчас (правда, в небольшом количестве) в Сухуме уже вырабатывают некоторые лекарственные препараты: лавровишневый экстракт, эвкалиптовое масло, камфору. В этой области у Абхазии большое будущее.
В Абхазии субтропический климат. Когда зимой подходишь к ее берегам на пароходе, с суши доносятся запахи, напоминающие тропики, запахи камфоры, мимоз, каких-то не наших цветов. Снег бывает как величайшая редкость и тает на лету. Мороз и снег здесь заменяет период дождей.
Где тропики – там лихорадка. Сухумская лихорадка не так жестока, как батумская, но все же она треплет приезжих. От нее и от зноя бегут в Цебельду, в горы, где прохладно и где каждую ночь шумят ливни.
Население Абхазии пестро и многоязычно. Помимо абхазцев – народа, не имеющего ничего общего ни в языке, ни по культуре с остальными народами Кавказа, – в Абхазии живут грузины, мингрелы, сваны, греки, армяне, эстонцы, русские, самурзаканцы, шапсуги и, наконец, чистые потомки крестоносцев, возвращавшихся в Европу из Трапезунда и осевших на берегах Колхиды.
Поэтому и сейчас на сухумском базаре, рядом с водоносами и ишаками, вы можете увидеть горцев со светлыми волосами и очень тонкими, правильными профилями флорентийцев. Это – действительно флорентийцы, несколько веков тому назад покинувшие свою родину. Они живут замкнуто, обособленно, но их деревня так же, как и все соседние, окружена кукурузниками и табаком.
Абхазский язык труден. Выучить его невозможно, он имеет множество звуков, которых не в состоянии произнести горло европейца. Нужно с младенческих лет слышать его, чтобы осилить эту бездну свистящих, гортанных и клекочущих звуков.
У абхазцев не было своей письменности. Только недавно, вместе с советизацией страны, была создана письменность и появились первые брошюры и листовки на абхазском языке.
Быт страны сложен и своеобразен. Кровавая месть и гостеприимство – вот основа этого быта. Кровавая месть становится все реже и реже с тех пор, как Советская власть стала сурово и беспощадно карать горцев за этот дикий обычай, опустошающий аулы, превращающий в военные лагери целые районы и делающий непроезжими самые оживленные дороги. Советы стариков творят суды под священным деревом; путник, перешагнувший порог своего злейшего врага, может быть спокоен, как у себя дома; на заборах торчат лошадиные черепа от злого духа; свадьбы празднуют неделями; считается грехом пить молоко, не разбавленное водой. Таких обычаев много. У каждой страны есть свои странности.
Советский строй в Абхазии приобрел колорит этой страны. Заседания сельсоветов проходят под священным дубом, все члены сельсовета сидят верхом на поджарых лошадях, с коней говорят, с коней голосуют, подымая вверх руки со старинными нагайками.
История этой страны – история непрестанной, тяжелой, нечеловечески упорной борьбы за каждую пядь гор, за каждый камень с армиями русских генералов, с «урусами», которые несли тогда не национальную свободу и возрождение, а рабство и пренебрежение к этим гордым, молчаливым горцам, полным сурового достоинства и необычайной деликатности.
В заключение я приведу здесь отрывок из дневника писателя и знатока Абхазии – Нелидова, имя которого неизвестно и рукописи не опубликованы из-за чрезмерной скромности автора:
«Утро пришло прозрачное и очень тонкое, купая в море красные рыбачьи паруса. На шхунах турки кипятили кофе в медных кастрюльках. Качались дубовые кили, и, как персидская майолика, на бронзовых горах бледным пурпуром цвели олеандры.
В солнечный дым садов я спустился из своей комнаты, словно вошел внутрь жемчуга.
Начиналась осень. Мучила лихорадка, карантинный врач сказал мне, что надо на неделю уйти из Сухума к Главному хребту, в область прохладных альпийских пастбищ.
Я нашел попутчика – циркового борца-профессионала, громадного и добродушного. Он знал все перевальные тропы, и идти с ним было легко и спокойно.
Шли мы три дня. В кукурузных полях за Мерхеулами мы обливались потом от невыносимой духоты, следя, как над Апианчей курились пепельные облака. Мы попали в безвыходный лабиринт диких гор и медленно подымались по незаметным тропкам, слушая, как в заросших орешником пропастях шумят монотонные реки.
Буковые леса стояли по склонам сумрачными колоннадами, пахло грибною прелью и медвежьими тропами, далеко срывались протяжные обвалы. Изредка над головой проносились со свистом коршуны и прятались по норам бурые лисицы.
На третий день в прорезы черных гор сверкнул синим льдом изломанный и мертвый Главный хребет.
На четвертый день с перевала он открылся весь. Горец, увешанный пулеметными лентами, с винтовкой за плечами, встретившийся нам на перевале, показал на высоко взметенный в небо зазубренный массив, покрытый ледниками, и сказал:
– Марух.
Было в этом слове что-то древнее, простое и страшное.
Горы горели торжественным изломом льда в похолодевшем от глетчеров небе. В необъятной первобытной тишине был слышен шорох осыпавшегося щебня. В ущельях дымились облака. Мы спустились к озеру. Сначала шли по зарубкам в лесу, цепляясь за мшистые камни, потом сползали, держась за канат.
На озере было солнечно и жарко. Отвесные берега, белые от известковых слоев, отражались в молочно-зеленой воде. Борец развел громадный костер, чтобы не набежали медведи: «Не разведешь костра – набегут со всех гор и будут ходить следом, выпрашивать по кусочку чурека».
На озере мы пробыли пять дней.
Все пять дней напролет около пещеры, где мы жили, весело гудел в небо костер из сухого красного дерева. По ночам мы вставали, подкладывали сучья и швыряли головешками в наглых шакалов. Быстрыми тенями они носились вокруг пещеры.
В первую же ночь они украли из-под головы борца кусок сыру. А последние четыре ночи они собирались громадными стаями на скалах и выли, нюхая горький дым костра.
Медведи бродили подальше, с опаской, выворачивали в лесу гнилые пни и устраивали по обрывам раскатистые обвалы.
Целыми днями мы ловили форелей, купались в ледяной воде, спали на белых скалах у берега, слепли от блеска озера и охотились за водяными курочками. Форель была жирная, старая и рвала лески.
В нерушимой, соборной торжественности гор, в ледяных ночах, падавших на озеро ослепительной звездной картой, была какая-то предмирная, едва улавливаемая сознанием тишина.
А вечерами лиловый, отлитый из меди, курясь багровыми туманами, загорался Марух, кровавыми мазками ложась на наши лица. Потом он гас, и только свет костра метался по мускулистым, кофейным щекам борца, курившего горькую трубку.
Мы уходили с озера после обильного ветреного дождя. Мох и глина налипали на ноги, и было трудно идти. Среди обширных, дымящихся дождями долин и лесистых цепей синими колодцами плыло далекое небо.
Ночевали мы в гулкой, пустой школе. В сумерках шел белый широкий ливень. Я до сих пор помню чувство горной, спокойной и сладкой тоски, когда я ночью просыпался и слушал торжественные раскаты грома в ущельях Агыша».
Такова Абхазия. Конечно, нельзя рассказать об этой стране в двухстах строках. Ее надо видеть, ибо ее богатство и красота вскрываются на месте, когда вы попадете в эти щедрые края, омытые теплым морем – одним из прекраснейших морей мира.
1928
Электронная версия текста перепечатывается с сайта http://abkhazski-paren.livejournal.com/16664.html